Как детей перестали воспринимать всерьез и начали использовать в политической пропаганде
Политическая пропаганда стремится к максимальной убедительности любой ценой. А что может быть более эффективным, чем напугать людей угрозой жизни и здоровью их детей — и предложить защиту? Пожалуй, ничего. В этой статье мы расскажем, как детей используют для оправдания дискриминации и чем риторика «защиты детства» может быть опасна для самих детей.
В широком смысле слова политика — это деятельность по приобретению, удержанию и укреплению власти. А любому, кто хочет удержать власть, важно, чтобы люди так или иначе признавали ее легитимность. Для этого и существует пропаганда — широкое распространение информации (истинной или ложной) с целью влияния на сознание масс и формирования «общественного мнения». К пропаганде прибегают все, кто так или иначе вовлечен в политику.
Один из классических приемов пропаганды — использование тех групп, у которых меньше прав и возможностей, в качестве идеологической разменной монеты. Эти группы иногда демонизируются (как евреи в Третьем рейхе), а иногда, наоборот, выставляются безвольными, но ценными «жертвами», которых надо защитить любой ценой.
Такими «жертвами» в западной истории традиционно выступали женщины и дети. Людей (а полноценными людьми в недавнем прошлом считали только взрослых мужчин) призывали взяться за оружие или преклонить колени перед монархом ради спасения жизней их жен и дочерей.
«Наши враги хотят обесчестить наших жен и поработить наших детей!» — подобные утверждения можно встретить во многих исторических романах и документальных источниках.
Но что борцам за власть делать теперь, когда у женщин появилось больше прав и возможностей, а многие женщины сами стали заниматься политикой, голосовать на выборах наравне с мужчинами и вступать в армию? Став равноправными членами общества, женщины перестали восприниматься в качестве «дорогой собственности» и символа невинности, который должен вдохновлять на подвиги.
Но политики, революционеры и активисты нашли прекрасную альтернативу дегуманизирующей риторике о защите «милых, но слабых дам»: они еще сильнее ухватились за «защиту детей».
Как дети стали разменной политической монетой
Дискриминация по возрастному признаку — эйджизм — существовал во все времена: как по отношению пожилым людям, так и по отношению к молодому поколению.
В обществе всегда было принято ценить жизнь «опытных и умных» взрослых выше жизни детей.
Но с развитием западной цивилизации понятие детства растянулось. Возраст «зрелости» — то есть совершеннолетия — стал отодвигаться всё дальше, и поэтому у молодежи становилось всё меньше прав и возможностей.
В средневековом обществе подростков воспринимали как «маленьких взрослых», поэтому замужество четырнадцатилетней Джульетты в шекспировской трагедии (1057 год) не вызывало ни у кого удивления. Как и то, что Петр I (1672–1725) стал полновластным царем всея Руси в 17 лет, а шведский король Карл XII (1682–1718) — в 15.
Из-за раннего начала военной и политической карьеры возраст, в котором люди совершали значительные поступки, был гораздо меньше нынешнего. Например, новгородский князь Александр Невский (1221–1263) получил свое прозвище в 18 лет, разгромив крестоносцев. Поэтому в прошлом молодых людей гораздо раньше начинали воспринимать всерьез.
Позже произошло множество социальных, технологических и политических изменений, которые привели к тому, что молодые люди стали практически бесправными, а понятие «детство» стало заканчиваться не с наступлением усредненного возраста полового созревания (12–13 лет), а с наступлением произвольно выбранного возраста совершеннолетия (18 и 21 год в большинстве развитых стран).
Грубо говоря, за последние пару столетий подростки превратились из политических субъектов в политические объекты.
Несмотря на то, что психическое и физическое развитие молодежи на протяжении веков не менялось из-за неизменности человеческой природы, современные дети и подростки, в отличие от их предшественников, фактически оказались в собственности своих родителей (раньше в таком положении находились только девочки из-за существующего в обществе сексизма).
Если вы прочтете подписанную в 1948 году Всемирную декларацию прав человека, то увидите, что, согласно ей, несовершеннолетние лишены всех базовых прав, кроме права на жизнь.
Несовершеннолетние бесправны: даже такие основные права, как право на медицинскую помощь или владение собственностью, находится в руках родителей или других опекунов. То есть в современном обществе людей до 18 (а в некоторых странах и до 21 года) воспринимают так же, как 200 лет назад в западном обществе воспринимали женщин.
Политикам невыгодно менять отношение к подросткам. Отказавшись от эйджистских законов, они не только потеряли бы значительное количество избирателей, которые воспитывались в современной эйджистской культуре и разделяют иерархический подход к возрасту. Политтехнологам пришлось бы отказаться от излюбленного пропагандистского приема: использования детей для продвижения политических повесток.
Эйджизм по отношению к молодежи как основа других видов дискриминации
Риторика о неполноценности несовершеннолетних (которых «мы любим несмотря ни на что и ограничиваем ради их собственной же безопасности») настолько прочно въелась в наше сознание, что политики снова и снова используют ее для сохранения статуса-кво. Поэтому эйджизм является одной из основ других видов дискриминаций, например, расизма, гомофобии, эйблизма и сексизма.
Давайте внимательнее посмотрим, как это работает, чтобы научиться замечать это явление в повседневной жизни и лучше противостоять риторике популистов.
Эйдижистская риторика в основе расизма и колониализма
Сексизм и эйджизм исторически служили оправданием для расизма. Во времена колониальных завоеваний образ «белого спасителя» во многом основывался на образе заботливого, но строгого отца-патриарха, обучающего «неразумных детишек» (менее развитые народы) — в том числе используя «наказания» (подавление их культуры и религии) ради их «коллективного блага».
Подробнее: https://knife.media/children-in-prop...zen.yandex.com
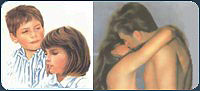




 Ответить с цитированием
Ответить с цитированием